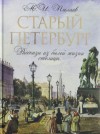М.И.Пыляев - историк и бытописатель жизни России. Как ели в старину, моды и модники старого времени, зрелища, балы, маскарады - вот некоторые темы, о которых увлекательно говорит Пыляев в своих книгах.
Однажды, проходя по Зеркальной линии [Гостиного двора], увидел я в одной из лавок серебряную табакерку, имевшую вид собачки. "Что хочешь за эту вещь?" - спросил я приказчика или хозяина, не знаю. "Тридцать пять рублей" - отвечал купец. "Дам пять" - сказал я в шутку и пошёл. В двадцати шагах от лавки мальчик догнал меня и, подавая табакерку, сказал: "Извольте-с! Пожалуйте пять рублей". Я заплатил и ужаснулся: я предложил цену в шутку и угадал настоящую цену. Спрашиваю: сколько бы я потерял, если б в этой пропорции ошибался по двадцать четыре раза в год, запасаясь всем нужным в Гостином дворе!!
Рассказывают, что Екатерина II, желая удивить скоростью езды в России императора Иосифа, приказала найти ямщика, который взялся бы на перекладных доставить императора в Москву за 36 часов. Такой ямщик нашёлся и был приведён перед государыней. "Берусь, матушка, - сказал он, - доставить немецкого короля в 36 часов; но не отвечаю, будет ли цела в нём душа".
/О Ломоносове/
Вот краткое извлечение из конспекта похвального слова, набросанного на латинском языке Штелином: "Характер Ломоносова: физической отличался крепостью и почти атлетической силою. Образ жизни общий плебеям. Умственной исполнен страсти к науке; стремление к открытиям. Нравственный. Мужиковат; с низшими и в семействе суров, желал возвыситься, равных презирал. Религиозные предрассудки его. Сатиры на духовных, гимн бороде. Преследует бедного Тредьяковского за его дурной русский слог".
Будучи адъюнктом, он жил на Васильевском острове при химической лаборатории; однажды осенью, вечером, пошел он гулять к заливу по Большому проспекту Васильевского острова. На обратном пути, когда уже стало смеркаться, он проходил лесом по прорубленному проспекту, как вдруг из кустов выскочили три матроса и напали на него. Ни души не было видно кругом. Он с храбростию стал обороняться от этих трех разбойников и так ударил одного из них, что он не только не мог встать, но долго не мог опомниться. Другого он ударил по лицу, тот весь в крови кинулся в лес, а третьего уже ему нетрудно было одолеть. Он повалил его и пригрозил, что тотчас же его убьет, если он не скажет, что он хотел с ним делать; разбойник сознался, что только хотел ограбить и потом отпустить. "А, каналья, - сказал Ломоносов, - так я же тебя ограблю!" И вор должен был снять с себя все и связать своим же поясом в узел и отдать ему. Положив узел на плечи, он принес его домой, и на другой день объявил о матросах в Адмиралтействе.
Прическа волос много раз изменялась; была низкая и высокая, посредине головы делали большую квадратную буклю; будто батарея, от нее шли по сторонам косые крупные букли, назади шиньон; всякая такая прическа была не менее полуаршина вышины и называлась le chien couchant (легавая собака); накладывали на голову также вроде берета убор с цветами и страусовыми перьями; его называли "тюрбан" и "шарлотта".
Пудру употребляли всевозможных цветов:серенькую, белую, палевую. Щеголиха одевала "пудер-мантель" и держала длинную маску со стеклышками из слюды против глаз, парикмахер пудрил дульцем. Богатые имели особые шкафы, внутри пустые, в которых пудрились; щеголиха влезала в него, затворяла дверцы, и пыль нежно опускалась на голову.
(...)
Налепляли тафтяные мушки, начиная от величины гривенника до маленькой блестки. Эти мушки размножались до бесконечности; вырезывать их и размещать по лицу было хитрым искусством. Они имели разные имена, смотря по своей фигуре и по той части лица, на которую налеплялись; мушка, обыкновенно вырезанная звездочкою, на середине лба, называлась величественною, на виске, у самого глаза, - страстною, на носу - наглою, на верхней губе - кокетливою, у правого глаза - тиран, крошечная на подбородке - "люблю, да не вижу", на щеке - согласие, под носом -разлука.
В старину в Гостином дворе гуляли все известные лица тогдашнего общества. В Гостином же, на верхней линии, осенью и зимою, в дождливые и ненастные дни гулял наш баснописец, Иван Андреевич Крылов. Он обходил Гостиный двор ежедневно пять раз. Существует анекдот про эти прогулки Ивана Андреевича: раз сидельцы, обыкновенно надоедавшие своими криками всем гуляющим, атаковали Крылова.
- У нас лучшие меха, пожалуйте-с, пожалуйте-с! - схватили его за руки и насильно втащили в лавку.
Крылов решился проучить рыночника.
- Ну, покажите же, что у вас хорошего?
Приказчики натаскали ему енотовых и медвежьих мехов. Он развертывал, разглядывал их.
- Хороши, хороши, а есть ли еще лучше?
- Есть-с.
Притащили еще.
- Хороши и эти, да нет ли еще получше?
- Извольте-с, извольте-с!
Еще разостлали перед ним несколько мехов. Таким образом он перерыл всю лавку.
- Ну, благодарствуйте, - сказал он наконец, - вижу, у вас много прекрасных вещей. Прощайте!
- Как, сударь, да разве вам не угодно купить?
- Нет, мои друзья, мне ничего не надобно; я прохаживаюсь здесь для здоровья, и вы насильно затащили меня в вашу лавку.
Не успел он выйти из этой лавки, как приказчики следующей подхватили его.
- У нас самые лучшие, пожалуйте-с! - и втащили в свою лавку.
Крылов таким же образом перерыл весь их товар, похвалил его, поблагодарил торговцев за показ и вышел. Приказчики уже следующих лавок, перешептываясь между собою и улыбаясь, дали ему свободный проход. Они уже знали о его проказах из первой лавки, и с тех пор он свободно проходил по Гостиному двору и только раскланивался на учтивые поклоны и веселые улыбки своих знакомых сидельцев.
На малые собрания приглашались только лица близкие к государыне. Гостей обязывали отказаться от всякого этикета. кроме того, были написаны самой императрицею особые правила, выставленные в рамке под занавескою. вот эти правила : 1) оставить все чины вне дверей, равномерно как и шляпы, а наипаче шпаги; 2) местничество и спесь оставить тоже у дверей; 3) быть веселым, однако ж ничего не портить, не ломать, не грызть; 4) садиться, стоять, ходить, как заблагорассудиться, не смотря ни на кого; 5)говорить умеренно и не очень громко, дабы у прочих головы не заболели; 6) спорить без сердца и горячности; 7) не вздыхать и не зевать; 8) во всяких затеях другим не препятствовать; 9) кушать сладко и вкусно, а пить с умеренностью, дабы всякий мог найти свои ноги для выходу из дверей; 10) сору из избы не выносить, а что войдет в одно ухо, то бы вышло в другое прежде, нежели выступит из дверей. если кто против вышеписанного проступился, то, по доказательству двух свидетелей, должен выпить стакан холодной воды, не исключая дам, и прочесть страничку "Телемахиды"; а кто против трех статей провинится, тот повинен выучить шесть строк из "Телемахиды" наизусть. а если кто против десяти проступится, того более не впускать. при входе висели следующие строки, написанные государыней: (с фр.:)
Садитесь, куда хотите, где вам нравится, чтобы вам не повторять это сто раз.
Государыня /Екатерина II/, как известно, отличалась необыкновенной вежливостью в обращении с людьми; любимая ее поговорка была: "Ce n'est pas tout que d'etre grand seigneur, Il faut encore etre poli" (Не довольно быть вельможею, нужно еще быть учтивым). По рассказам, императрица имела особенный дар приспособлять к обстоятельствам выражение лица своего; часто после вспышки гнева в кабинете подходила она к зеркалу и, так сказать, сглаживала, прибирала черты свои и являлась в залу со светлым и царственно-приветливым лицом. Однажды на бале хотела она дать приказание пажу и сделала знак, чтобы подозвать его, но он того не заметил, а граф Остерман принял, что знак был сделан ему, и подошел к государыне, опираясь на свою длинную трость; императрица встала со своих кресел и подошла с ним к окну, где несколько времени с ним проговорила. Потом, возвратясь на место, спросила графиню Головину, довольна ли она ее вежливостью. "Могла ли я иначе поступить! Я огорчила бы старика, давши ему почувствовать, что он ошибся, а теперь, сказав ему несколько слов, я оставила его в заблуждении. Он доволен, вы довольны, а следовательно, довольна и я!"
В другой раз князь Барятинский ошибкою, вместо графини Паниной пригласил на вечер в Эрмитаж графиню Фитингоф. Увидя неожиданную гостью, императрица удивилась, но не дала этого заметить, а только приказала тотчас послать приглашение графине Паниной; графиню же Фитингоф велела внести в список лиц, приглашаемых на эрмитажные собрания, для того, чтобы она не догадалась, что была приглашена ошибкою.
"Тут /в Таврическом дворце/ поставлена, - продолжает Второв, - через один пруд славная модель механического моста для Невы. Кулибин делал эту модель на дворе Академии наук в продолжение четырех лет, на постройку которой Потемкин дал ему тысячу рублей. Потемкин очень любил Ивана Петровича Кулибина за его честность и за его открытый, благородный характер. Прямота и откровенность, часто не нравившиеся в других людях Потемкину, нравились в Кулибине. Он был рад, что явился такой необыкновенный русский самоучка. Потемкин говаривал, что он любит Кулибиным побесить немцев".
В царствование императора Александра I другой такой же самоучка-инженер, мещанин Торгованов, подал графу Милорадовичу проект устройства туннеля под Невою со стороны Адмиралтейскй площади на Васильевский остров. Прочитав поданный проект, граф сказал Торгованову, что он пустяки затевает. Торгованов отвечал, что это может быть славным делом, достойным России, и что он за него отвечает своею головою. Изобретатель просил на коленях у графа, чтобы он, хотя ради курьеза, доложил государю о его проекте. Граф доложил и вынес следующую резолюцию: "Выдать Торгованову из кабинета 200 рублей и обязать его подпискою, чтобы он впредь прожектами не занимался, а упражнялся в промыслах, состоянию его свойственных".
В 1713 году построен был другой Гостиный двор, называвшийся долго Новым. В этом-то Гостином дворе помещалась первая книжная лавка в Петербурге; в ней продавались печатные указы, азбуки (шесть денег каждая), "считание удобное", т.е. таблица умножения (по 5 алтын), затем из гравюр: портреты "персоны", т.е. царя, Шереметева, виды монастырей, Москвы и т.д. Бойче всех книг в тогдашнее время здесь шел календарь Брюса; публика особенно ценила его за предсказания. Вовсе не покупались и лежали в лавке книги: "Разговоры на голландском и русском языках", затем множество еще других печатных изданий.
Как мало дорожили тогда книгами, об этом есть множество свидетельств: так, в конторе Московской Синодальной типографии накопилось такое множество напечатанных при Петре Великом книг, не находивших покупателей, что в 1752 году их приказано сжечь. О равнодушии тогдашнего общества к книгам ярким примером является также и указ 1750 года, в котором говорится, что "в Синод беспрекословно было представлено для истребления множество книг и карт, которых представлять вовсе не следовало". Книги эти были после свезены в "десианс академию" (Академия наук (франц.)). Позднее, впрочем, в русском обществе, особенно в провинции, явилась страсть хвастаться книжками, и нередко сельские библиотеки наших бар состояли из тысяч томов, выточенных из дерева. Вся эта деревянная мудрость стояла в роскошных шкафах, с блестящею сафьянною накладкою на корешках и с надписью: Racine, Voltaire, Encyclopedie и т.д.
В это время в быту дворянском книги составляли последнюю вещь из всех вещей. Орловский или тульский помещик говаривал, что оследить русака не то, что прочесть книгу. Книгу может прочесть всякий, а петли русачьи по выбору бредут на разум; пороша - дело, а книгу читаешь от безделья. С почтенными помещиками думали тогда более или менее все одинаково.
Книжная лавка, о которой мы говорили, была единственная в Петербурге до 1760 года; она управлялась фактором. Вторая книжная лавка была открыта г.Вейтбрехтом, носила она название Императорской книжной лавки. Затем уже, с 1785 по 1793 год, открылось около десяти новых книжных магазинов...
Из всех книгопродавцев того времени имя Плавильщикова отличается наибольшими заслугами в области просвещения. Ему принадлежит слава основателя первой русской библиотеки для чтения: до него книги для чтения можно было получать от книгопродавцев не по выбору читателей, а по воле последних, которые и выдавали книги испорченные или старые. По словам современников, магазин Плавильщикова представлял "тихий кабинет муз, где собирались ученые и литераторы делать справки, выписки и совещания, а не рассказывать оскорбительные анекдоты и читать на отсутствующих эпиграммы и сатиры". Все почти литераторы безденежно пользовались его библиотекой, даже и после его смерти (в 1823 году), по духовному завещанию.
Открытие первой библиотеки в Петербурге состоялось 15 сентября 1815 года. Первая же библиотека в смысле книгохранилища была основана Петром во дворце в Летнем саду и затем передана в Академию, где с 1728 года (22 октября) и сделалась доступной для общественного пользования.