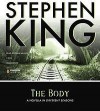Мои цитаты из книг
Почему-то я старательно избегал слова «пуля», употребляя только «патрон».
В малолетнем возрасте Горди потерял брата, а впавшие в депрессию родители перестали осознавать реальность. Подросток вместе с друзьями отправляется в лес на поиски трупа мальчика, сбитого поездом. Перед выходом, мальчик забирает с собой пистолет отца, присоединяясь к напарникам. По дороге ребята попадают в различные неприятности, сталкиваясь со странным Майло, спускающем на них собаку и удирают глубже в чащу. Поиски увенчаются успехом и труп парни находят, но банда местных хулиганов тоже...
Такое случается сплошь и рядом: друзья приходят и уходят, а жизнь продолжается.
В малолетнем возрасте Горди потерял брата, а впавшие в депрессию родители перестали осознавать реальность. Подросток вместе с друзьями отправляется в лес на поиски трупа мальчика, сбитого поездом. Перед выходом, мальчик забирает с собой пистолет отца, присоединяясь к напарникам. По дороге ребята попадают в различные неприятности, сталкиваясь со странным Майло, спускающем на них собаку и удирают глубже в чащу. Поиски увенчаются успехом и труп парни находят, но банда местных хулиганов тоже...
Крис был абсолютно прав: самые горькие слезы – это слезы отчаяния, бессильной ярости.
В малолетнем возрасте Горди потерял брата, а впавшие в депрессию родители перестали осознавать реальность. Подросток вместе с друзьями отправляется в лес на поиски трупа мальчика, сбитого поездом. Перед выходом, мальчик забирает с собой пистолет отца, присоединяясь к напарникам. По дороге ребята попадают в различные неприятности, сталкиваясь со странным Майло, спускающем на них собаку и удирают глубже в чащу. Поиски увенчаются успехом и труп парни находят, но банда местных хулиганов тоже...
— Из-за людей. Вот так всегда: из кожи лезешь вон, стараясь выплыть на поверхность, но всегда найдутся такие, кто тебя утопит.
В малолетнем возрасте Горди потерял брата, а впавшие в депрессию родители перестали осознавать реальность. Подросток вместе с друзьями отправляется в лес на поиски трупа мальчика, сбитого поездом. Перед выходом, мальчик забирает с собой пистолет отца, присоединяясь к напарникам. По дороге ребята попадают в различные неприятности, сталкиваясь со странным Майло, спускающем на них собаку и удирают глубже в чащу. Поиски увенчаются успехом и труп парни находят, но банда местных хулиганов тоже...
Большинству ужасно нравились мои рассказы о погребенных заживо, о казненных преступниках, восставших из мертвых, чтобы отомстить приговорившим их судьям, о маньяках, делающих из своих жертв котлеты, но главным образом о частном детективе Курте Кэнноне, который, «выхватив свой «магнум», принялся отправлять патрон за патроном в разверстую зловонную пасть маньяка».
В малолетнем возрасте Горди потерял брата, а впавшие в депрессию родители перестали осознавать реальность. Подросток вместе с друзьями отправляется в лес на поиски трупа мальчика, сбитого поездом. Перед выходом, мальчик забирает с собой пистолет отца, присоединяясь к напарникам. По дороге ребята попадают в различные неприятности, сталкиваясь со странным Майло, спускающем на них собаку и удирают глубже в чащу. Поиски увенчаются успехом и труп парни находят, но банда местных хулиганов тоже...
Он поднялся,нацепил на нос очки(прикрыл наготу лица,подумал я) и, вымученно замявшись,побренчал пальцами по губам.
В малолетнем возрасте Горди потерял брата, а впавшие в депрессию родители перестали осознавать реальность. Подросток вместе с друзьями отправляется в лес на поиски трупа мальчика, сбитого поездом. Перед выходом, мальчик забирает с собой пистолет отца, присоединяясь к напарникам. По дороге ребята попадают в различные неприятности, сталкиваясь со странным Майло, спускающем на них собаку и удирают глубже в чащу. Поиски увенчаются успехом и труп парни находят, но банда местных хулиганов тоже...
Представляете,все это мне выложил двенадцатилетний мальчишка! Но когда Крис Чемберс это говорил,лицо у него было такое-словно у умудренного жизнью старика,познавшего все на свете...Тон его был совершенно спокойным,даже каким то бесцветным,но именно он вселил в меня настоящий ужас.
В малолетнем возрасте Горди потерял брата, а впавшие в депрессию родители перестали осознавать реальность. Подросток вместе с друзьями отправляется в лес на поиски трупа мальчика, сбитого поездом. Перед выходом, мальчик забирает с собой пистолет отца, присоединяясь к напарникам. По дороге ребята попадают в различные неприятности, сталкиваясь со странным Майло, спускающем на них собаку и удирают глубже в чащу. Поиски увенчаются успехом и труп парни находят, но банда местных хулиганов тоже...
Наверное, в жизни каждого из нас есть что-то такое, что для нас имеет первостепенное значение, о чем просто необходимо поведать миру, вот только, пытаясь сделать это, мы сталкиваемся с неожиданным препятствием: то, что нам кажется важнее всего на свете, немедленно теряет свой высокий смысл и, облеченное в форму слов, становится каким-то мелким, будничным. Но дело ведь не только в этом, правда? Хуже всего то, что мы окружены глухой стеной непонимания, точнее, нежелания понять. Приоткрывая потайные уголки своей души, мы рискуем стать объектом всеобщих насмешек и, как уже не раз бывало, наше откровение будет гласом вопиющего в пустыне. Понимание, желание понять — вот в чем нуждается рассказчик.
В малолетнем возрасте Горди потерял брата, а впавшие в депрессию родители перестали осознавать реальность. Подросток вместе с друзьями отправляется в лес на поиски трупа мальчика, сбитого поездом. Перед выходом, мальчик забирает с собой пистолет отца, присоединяясь к напарникам. По дороге ребята попадают в различные неприятности, сталкиваясь со странным Майло, спускающем на них собаку и удирают глубже в чащу. Поиски увенчаются успехом и труп парни находят, но банда местных хулиганов тоже...
В такие моменты я вспоминал тот предрассветный час,бархотисто-карие глаза и маленькие замшевые ушки великолепного,совершенно не пугающегося меня животного,настоящего чуда природы...
В малолетнем возрасте Горди потерял брата, а впавшие в депрессию родители перестали осознавать реальность. Подросток вместе с друзьями отправляется в лес на поиски трупа мальчика, сбитого поездом. Перед выходом, мальчик забирает с собой пистолет отца, присоединяясь к напарникам. По дороге ребята попадают в различные неприятности, сталкиваясь со странным Майло, спускающем на них собаку и удирают глубже в чащу. Поиски увенчаются успехом и труп парни находят, но банда местных хулиганов тоже...
...неписаный ребячий закон, свято соблюдавшийся в те времена: можно говорить все, что угодно, о другом пацане, можно смешивать его с грязью, обливать его дерьмом, но о родителях его ни в коем случае нельзя было произнести худого слова. Это считалось табу, за нарушение которого полагалась неотвратимая и жестокая кара.
В малолетнем возрасте Горди потерял брата, а впавшие в депрессию родители перестали осознавать реальность. Подросток вместе с друзьями отправляется в лес на поиски трупа мальчика, сбитого поездом. Перед выходом, мальчик забирает с собой пистолет отца, присоединяясь к напарникам. По дороге ребята попадают в различные неприятности, сталкиваясь со странным Майло, спускающем на них собаку и удирают глубже в чащу. Поиски увенчаются успехом и труп парни находят, но банда местных хулиганов тоже...