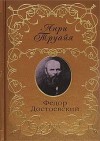Мои цитаты из книг
Письмо к сыну, Георгию Эфрону (Муру)
«Мурлыга! Прости меня. Но дальше было бы хуже. Я тяжело-больна, это - уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але - если увидишь - что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».
Вокруг жизни Марины Цветаевой существует великое множество слухов, домыслов и даже легенд. Известный французский писатель и биограф Анри Труайя в своей работе старался опираться только на те факты, которые представлялись ему наиболее достоверными и важными для понимания жизненной трагедии и творческого пути великой русской поэтессы. Длительность: 14 часов 09 минут
Среди великой людской неразберихи души попадают иной раз не в ту оболочку; мужская душа оказывается в женском теле, а женская в грубом обличье циклопа.
Брат, я не уныл и не пал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком,и остаться им навсегда, а каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть, вот в чем жизнь, вот в чем задача ее
Достоевский
Федор Михайлович Достоевский - кем он был в глазах современников? Гением, величайшим талантом, новой звездой, взошедшей на небосклоне русской литературы, или, по словам Ивана Тургенева, "пресловутым маркизом де Садом", незаслуженно наслаждавшимся выпавшей на его долю славой? Анри Труайя не судит. Он дает читателям право самим разобраться в том, кем же на самом деле был Достоевский: Алешей Карамазовым, Свидригайловым или "просто" необыкновенным человеком с очень сложной судьбой. Примечание: Это...
Это открытие завораживает, преследует его: народ не развит, не образован, народ-все те, кто работает руками, те, кто рассуждает, а чувствует, народ- носитель исконной русской жизни. Мужик- прежде всего дитя, он сохранил в себе детское простодушие; он у б е р е г с я от культуры, социальных условностей, разного рода ученой лжи. Он близок к Богу. Народ владеет, сам того не осознавая, тайной жизни по боже с к им законам.
Обратиться к народу, садиться с народом, значит, садиться с Богом
Федор Михайлович Достоевский - кем он был в глазах современников? Гением, величайшим талантом, новой звездой, взошедшей на небосклоне русской литературы, или, по словам Ивана Тургенева, "пресловутым маркизом де Садом", незаслуженно наслаждавшимся выпавшей на его долю славой? Анри Труайя не судит. Он дает читателям право самим разобраться в том, кем же на самом деле был Достоевский: Алешей Карамазовым, Свидригайловым или "просто" необыкновенным человеком с очень сложной судьбой. Примечание: Это...
Наши дамы- писательницы пишут как дамы' писательницы, то есть, умно, мило, и чрезвычайно спешат высказаться. Скажите, почему дама- писательница почти никогда не бывает строгим художником?
Федор Михайлович Достоевский - кем он был в глазах современников? Гением, величайшим талантом, новой звездой, взошедшей на небосклоне русской литературы, или, по словам Ивана Тургенева, "пресловутым маркизом де Садом", незаслуженно наслаждавшимся выпавшей на его долю славой? Анри Труайя не судит. Он дает читателям право самим разобраться в том, кем же на самом деле был Достоевский: Алешей Карамазовым, Свидригайловым или "просто" необыкновенным человеком с очень сложной судьбой. Примечание: Это...
Церковь предлагает слишком упрощенные доводы: принцип "ничто не дается даром". Нужно нечто иное, но – что?
"…если я даже этого не могу понять, то где ж мне про Бога понять".
Таким образом, этот атеист восстает не против Бога, а против непостижимости природы Божьего существа. Желать верить в Бога – значит уже не быть атеистом. Оскорблять Бога – значит уже верить в Него. Неистовое отрицание Ивана направлено против церковного бога – административного, обыденного, искусственного бога Великого инквизитора. Иван не допускает, чтобы ему навязывали Бога, сведенного до уровня человеческого ума, выведенного человеком из системы силлогизмов, – Бога, приведенного в мир людьми. Ведь Бог "не от мира сего". Бог – тайна, ожидание, надежда. Церковь слишком конкретизирует надежду и тем убивает ее.
Федор Михайлович Достоевский - кем он был в глазах современников? Гением, величайшим талантом, новой звездой, взошедшей на небосклоне русской литературы, или, по словам Ивана Тургенева, "пресловутым маркизом де Садом", незаслуженно наслаждавшимся выпавшей на его долю славой? Анри Труайя не судит. Он дает читателям право самим разобраться в том, кем же на самом деле был Достоевский: Алешей Карамазовым, Свидригайловым или "просто" необыкновенным человеком с очень сложной судьбой. Примечание: Это...
Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами…
Федор Михайлович Достоевский - кем он был в глазах современников? Гением, величайшим талантом, новой звездой, взошедшей на небосклоне русской литературы, или, по словам Ивана Тургенева, "пресловутым маркизом де Садом", незаслуженно наслаждавшимся выпавшей на его долю славой? Анри Труайя не судит. Он дает читателям право самим разобраться в том, кем же на самом деле был Достоевский: Алешей Карамазовым, Свидригайловым или "просто" необыкновенным человеком с очень сложной судьбой. Примечание: Это...
Суслова действительно человек неблагонадежный; во-первых, она носит синие очки, во-вторых, волосы у нее подстрижены. Кроме того, имеются слухи о ней, что "в своих суждениях она слишком свободна и никогда не ходит в церковь".
Федор Михайлович Достоевский - кем он был в глазах современников? Гением, величайшим талантом, новой звездой, взошедшей на небосклоне русской литературы, или, по словам Ивана Тургенева, "пресловутым маркизом де Садом", незаслуженно наслаждавшимся выпавшей на его долю славой? Анри Труайя не судит. Он дает читателям право самим разобраться в том, кем же на самом деле был Достоевский: Алешей Карамазовым, Свидригайловым или "просто" необыкновенным человеком с очень сложной судьбой. Примечание: Это...
Среди учеников Чермака Федор мог бы выбрать себе товарищей. Но его чрезмерное самолюбие, обидчивость, мнительность, его болезненная застенчивость отталкивали однокашников. Он сгорал от желания пожертвовать собой, готов был открыть душу первому встречному, но заранее замыкался в себе, сосредоточиваясь на своем внутреннем мире. Он боялся жизни. Что общего между этими жизнерадостными и примитивными сорванцами и им, Федором Достоевским, с его заботливо взлелеянной, хоть и омрачавшей его существование, меланхолией? Что общего между его романтическими порывами, смутным желанием славы, его увлечением литературой и грубоватыми забавами его товарищей, чьи вульгарные шуточки коробили его?
Федор Михайлович Достоевский - кем он был в глазах современников? Гением, величайшим талантом, новой звездой, взошедшей на небосклоне русской литературы, или, по словам Ивана Тургенева, "пресловутым маркизом де Садом", незаслуженно наслаждавшимся выпавшей на его долю славой? Анри Труайя не судит. Он дает читателям право самим разобраться в том, кем же на самом деле был Достоевский: Алешей Карамазовым, Свидригайловым или "просто" необыкновенным человеком с очень сложной судьбой. Примечание: Это...
Анри Труайя Федор Достоевский
«– Ты счастлива?
– Нет.
– Как же это? Любишь и не счастлива, да возможно ли это?
– Он меня не любит.
– Не любит! – вскричал он, схватившись за голову, в отчаянии. – Но ты не любишь его, как раба, скажи мне, это мне нужно знать! Не правда ли, ты пойдешь с ним на край света?
– Нет, я… я уеду в деревню, – сказала я, заливаясь слезами».
Федор Михайлович Достоевский - кем он был в глазах современников? Гением, величайшим талантом, новой звездой, взошедшей на небосклоне русской литературы, или, по словам Ивана Тургенева, "пресловутым маркизом де Садом", незаслуженно наслаждавшимся выпавшей на его долю славой? Анри Труайя не судит. Он дает читателям право самим разобраться в том, кем же на самом деле был Достоевский: Алешей Карамазовым, Свидригайловым или "просто" необыкновенным человеком с очень сложной судьбой. Примечание: Это...